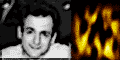Забытье
Автор: Дмитрий Швец Дата: 28.01.2014 19:04
Произошла эта история в послеперестроечный период, когда многие граждане России и стран рухнувшей социалистической империи столкнулись с величайшими трудностями: инфляцией, потерей работы, потерей жилья, а иногда и с потерей близких. Как правило, этими людьми, сводившими счет с жизнью, оказывались работоспособные мужчины, столкнувшиеся с крайней безнадежностью, и не нашедшие никакого другого выхода для себя и своих семей. И тогда, после ухода их из жизни, их семьи оставались на произвол судьбы. Страшное это было время. Но наше время страшнее. Потому что вроде бы и уже нет дефицита вещей, и длинных очередей за продуктами тоже нет, но суетная погоня не утихла, а равнодушие людское, если так можно выразиться, усилилось. Впрочем, без долгих вступлении перейдем прямо к повествованию истории, слышанной мною через третьи уста, случайно.
Иван Петрович был врач, что называется, от Бога, профессионал высочайшего уровня. Многие его в больнице знали, многие из знакомых его за отзывчивость уважали. Впрочем, уважение и признание он имел не только в среде коллег, но и от многих вылеченных им пациентов. Особенной благодарностью была благодарна ему Тамара Васильевна – шеф повар, сына которой он прооперировал, как говорится, вытащив чуть ли не с того света, после тяжелейшей травмы, полученной в результате страшнейшей аварии. Как уже догадался читатель, Иван Петрович был хирургом, хирургом выдающимся, с золотыми руками, как отзывались о нем коллеги.
Будучи порядочным семьянином, отцом двоих детей, к своей работе он относился с особенным пристрастием: много времени проводил в больнице, часто больше положенного по графику срока, всячески повышал свой профессиональный уровень, неустанно изучал тонкости человеческой анатомии, проводил тщательнейший осмотр и обследование своих пациентов. И от этого слава о заботливом враче, по маленькому провинциальному городу, распространилась с высокой скоростью, и, что немало важно, закрепилась за ним.
К слову сказать, городок, в котором он проживал, был городок маленький и крайне северный, каких по всей России не много. Одна церковь, одна администрация напротив этой церкви, на весь город всего одна площадь, на которой, напротив дома культуры, установлен памятник Ленину, и на которой, по случаю, проходят народные гуляния. В дни общероссийских и местных праздников население всего городка собирается на набережной площади, чтобы пронаблюдать концерт, дающийся на сцене под открытым небом, в палатке заказать шашлык, или просто встретить своих знакомых. В маленьких городах, как мы знаем, встреча со знакомыми, на подобных мероприятиях, является весьма вероятной. Такие гуляния на улице, обычно, проходят летом. Зимой же, если случается, что в городок приезжает столичная звезда или целый коллектив, или на календаре наступает дата местного праздника, который обязательно нужно провести, и выступает один только ансамбль «Хейро», концертная церемония проводится в доме культуры или в развлекательном центре, и все ее участники собираются по крышей огромного здания. В общем, культура этого города вполне обычная, провинциальная, простая, всяких ухищрении и мошенничества в себе не таящая.
Большие же города, как известно, кроют в себе много опасностей, причем опасностей незаметных, сразу не различимых, в высшей степени неожиданных. И человеку из провинции, пусть даже высокообразованному, даже в голову, подчас, не приходит, где, в каком месте, во сколько по местному времени, его может подстерегать беда. Я, конечно же, говорю не о внушительных по размеру сосульках, висящих над головами жителей Петербурга зимой, также и не об автомобильной угрозе на дорогах, хотя о ней тоже нужно помнить, и не о наличии пневматического оружия у многих молодых людей, которые в силу своей горячности, в большинстве случаев, используют его не для самообороны, как об этом говорят, когда приобретают, а, как правило, при неожиданном нападении по самому пустяковому поводу. При всей своей опасности для жизни, эти угрозы очевидны. Есть же такие, о которых люди не помышляют, и о которых они знают только из фильмов, и никогда в них не верят, и никогда не предполагают, что подобное может приключиться и с ними.
***
Рабочий год был уже позади, для Ивана Петровича наступила долгожданная пора отпуска. И он, решив все свои дела, собрав все необходимые справки по всем нужным инстанциям, дав последнее напутствие молодому коллеге, который, в качестве хирурга, на весь город оставался в единственном экземпляре, засобирался уезжать. Жена в это время работала и ехать с ним не могла. Дети, окончив учебный год, уехали в лагерь и должны были пробыть там целый месяц, до самого конца его отпуска. В общем и целом ехать ему приходилось одному.
Северная весна подходила к своему завершению, и оттого настроение у большинства горожан, судя по их улыбающимся лицам, напоминало праздничное. Это непередаваемое ощущение, знакомое, наверное, только жителям севера, когда в душе теплится ощущение предвкушения отдыха, вызванное приближением отъезда на материк, словно бы витало над городом, и вселялось в каждого, кому, уже в ближайшие дни намечено было судьбой погреться под южным солнцем, и ощутить прохладный ветерок с моря или чарующий запах реки, или увидеть бегущую рябь мелкого, загородного озера. Ведь, как известно тем, кто уже работает или работал в государственных учреждениях, да и не только в государственных, получение отпуска в летние месяцы бывает весьма затруднительно, и требует специфики профессиональной деятельности или соответствующей должности. Проще говоря, как правило, этим преимуществом пользуются начальники, оставляя организацию на попечении заместителя, или работники (примером которых могут послужить учителя), деятельность которых летом прекращается, в силу отсутствия занятости. Правда, даже учитель может оставаться летом в школе для того только, чтобы организовать работу детской площадки, а начальник на производстве способен быть до того предан своему делу и любить свою работу, и боятся оставить подчиненных, потому что считает, что без него они ни в коем случае не справятся, а только наворотят дел, которые потом, по приезду, придется ему же и расхлебывать, что не оставляет рабочее место более чем на неделю, и постоянно навещает своих работников. Читатель, может, скажет, где же найти таких начальников? Со знанием дела утверждаю, что бывают исключения, и в основном в среде предпринимателей, потому что от их участия в производственном процессе, напрямую, зависит их собственная прибыль. Помимо преданности своему делу и желанию побольше заработать, добавляются и всякие индивидуальные причины, которых мы не сможем перечислить, да и не видим смысла. В любом случае, на разных предприятиях действует очередность, и бывает так, что люди, по житейским обстоятельствам, несколько лет подряд, остаются без отпуска. Беру на себя смелость заявить, что, порой, этому нет основательных причин. А быть может, я ошибаюсь.
Минуя всю эту цепь факторов, препятствующих получению отпуска в жаркое время года, окончательно упаковав все необходимые вещи, которые вместились в один, громоздкий, черный чемодан, Иван Петрович отправился в дорогу. И как подобает человеку прагматичному, в своем роде стратегу, он выехал заранее, с запасом в пару часов, чтобы, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не опоздать на самолет. За несколько часов до вылета, от города до аэропорта, расположенного в нескольких километрах, он добирался на такси, но, честно говоря, без особенных удобств. Весь полуторачасовой путь его трясло, подкидывая к потолку дребезжащего автомобиля, словно пробку от растрясенной бутылки шампанского, как только колеса автомобиля натыкались на очередную кочку, как, впрочем, и всех тех, кому приходилось проезжать по этой дороге по какой-нибудь надобности, потому что дорога была отвратительная. У местных властей никогда не хватало денег, чтобы ее починить. По дороге Иван Петрович обменялся всего лишь парой фраз с водителем, а в остальное время задумчиво глядел в окно, и только слушал не умолкавшие рассказы и сетования водителя, который говорил, казалось, только для того, чтобы нарушить тягостное для него молчание. Монолог его, по сути, был пустым, и от этого утомительным для Ивана Петровича, который совершенно не любил пустословия, и даже, вернее сказать, гнушался его. Ему, как человеку образованному и мыслящему, немногословному, в эти томительные моменты, только внутренняя культура не позволяла оборвать вынужденного собеседника на полуслове, и, поэтому он терпеливо слушал, потому что не умел не слушать. И все же, иногда и к радости, всему приходит завершение.
Расплатившись с таксистом, который взял строго по таксе, наш герой, с необременительной для него ношей, включавшей один единственный чемодан, зашел в здание аэропорта. Здесь уже было совсем не так как в привычном ему городе. В аэропорту была другая жизнь, чувствовалось оживление, неугомонность, движение. Пассажиры спешили на посадку, охранники проверяли багажи, расторопные официанты обслуживали своих клиентов. И мало того, что все эти процессы протекали стремительно, непривычно для Ивана Ивановича, и люди спешили даже тогда, когда до регистрации их рейса оставался час, а то и два, и спешить, в принципе, им было некуда, так еще и сама атмосфера, царившая в здании, какой-то неведомой силой, подгоняла его самого, заставляя беспокоиться, суетиться, бояться, что не успеет вовремя. Осознав, что ему-то точно спешить некуда, он присел на скамью и решился спокойно, смакуя воспоминания, дожидаться объявления своей регистрации. Эту свободную минуту, мы, пожалуй, и используем для описания нашего героя. Ростом он был не высок, хотя был одним из самых высоких в больницы, быть может, всего лишь оттого, что в ней работали, преимущественно, женщины; судя по виду, не худой, но и большого живота у него не замечалось; волосы темные, ухоженные, лицо гладко выбритое, спокойный взгляд. В общем и целом внешности он был обычной, свойственной многим, и не только врачам, а людям разных профессии. Впрочем, внешность никогда не была предметом гордости и превозношения Ивана Петровича, и ей он, к слову говоря, не уделял особого внимания, стараясь выглядеть прилично, для пациентов располагающе, и на этом, пожалуй, заботы о внешнем виде его исчерпывались. Совсем иное был его внутренний мир – ему он уделял большее и должное внимание. Рассудительный и спокойный, от него веяло хладнокровием и, в то же время, теплотой душевной (что крайне редко сочетается в одной душе), он никогда не принимался за дело без осознания, возложенной на него ответственности, ответственности за человеческую жизнь. В общении он не был резким, даже если его не устраивало мнение пациента, или график, установленный главврачом, или если в семье не ладилось, он, все же не срывал обиды, причиненные одними, на других. Да и вообще, казалось, что на обиду только от грубых слов он был не способен. Это было для него как бы противоестественно. Ко всяким бурным проявлениям человеческой натуры он относился с должным пониманием, и если не получалось договориться, старался прекратить беседу, а если его что-то не устраивало – высказывал, но соблюдая нормы приличия, культуры. В общем, его было за что любить, ввиду чего, его, по крайней мере, уважали.
***
Чего только не насмотрится врач за долгие годы своей врачебной практики; сколько человеческих органов не придётся ему ощутить своим осязанием; какие только картины не пройдут т через его воображение, пугая его и превосходя самые ужасные фантазии. Жутчайшие катастрофы; автомобильные аварии, кромсающие человеческие тела; последствия бурно проведенной ночи и засыпания или потери сознания с сигаретой в руке, поножовщина, драки, невообразимые бытовые преступления, пугающие животной жестокостью, предстают его глазам во всех своих красках и во всех неописуемых тонах. Особенно в поставке таких пациентов преуспевали несколько домов, гостиничного типа, в которых поселялись люди разные, от окончательно спившихся и наркоманов, до людей порядочных, не пьющих ни грамма. Говоря про дома гостиничного типа, я, конечно же, имею в виду не гостиничные апартаменты, в которые заселяются приезжие из других городов, и которые поддерживаются в чистоте для того, чтобы иметь презентабельный вид, а обычные с виду девятиэтажные дома, с маленькими комнатками, от двенадцати до шестнадцати квадратов, в которых, порой, проживают целыми семьями. В этих домах постоянно, с крайне частой периодичностью, совершаются разного рода преступления, пожары, самоубийства, и, складывается впечатление, что эти дома прокляты. Но врачу не приходиться и не позволительно разбираться в тонкостях потустороннего мира, в то время как приходиться делать все для спасения еще живого организма. Не является секретом, что и онкологические опухоли, распространяющиеся по телу и жадно поедающие живые клетки, становятся предметом, правильное удаление которого, порой, не один час занимает ум хирурга. И особенно в таких случаях, ко всей сложности операции, добавляется еще один психологический трудно разрешимый вопрос: как осведомить больного в том, что у него страшная болезнь, какой для этого способ выбрать, как этим осведомлением ему не навредить. Ведь происходили и происходят случаи, когда после озвучения страшного диагноза, пациент опечаливался, подвергался унынию, и чах, словно цветок, которого, вдруг, ни с того ни с сего, перестали орошать живительной влагой. И все же, все это более привычно, потому что подобные трагедии стары, болезням уже много больше века, а объясняться врачам, а тем более хирургам приходиться часто. Беру на себя ответственность предположить, что куда страшнее врачу, как и любому другому человеку, сталкиваться необъяснимым, не понятным, ранее не изученным явлениям, таким, например, как бесполый ребенок с заячьей губой и с волчьей пастью, родители которого, по их словам, всего лишь несколько раз употребили наркотики, или с внезапной смертью пациента, и с последующим неожиданным его воскрешением и рассказами о потустороннем мире. И если первое ужасает своей трагичностью, пробуждает недопустимую для хирурга жалость, но, все же, теоретически объяснимо, то второе никак, ни при каких условиях, не вписывается в рамки сугубо научного мировоззрения. К сожалению, я не был лично знаком с Иваном Петровичем, и поэтому чего только не пришлось навидаться ему за долгие годы профессиональной деятельности остается только догадываться.
Однако все ужасы врачебной практики не оказали на его нервны существенного влияния, хоть и сострадание ему было не чуждо, хоть и непростительно оно было хирургу. В строгой задумчивости, находившей отражение на его приятном, простодушном лице, вряд ли можно было угадать страх, беспокойство, или утомленность от вызовов в любое время суток. В том числе и по этой причине, Иван Петрович совсем не употреблял спиртного. И хоть городок был совсем маленький, и как поговаривала молодежь, унылый потому что некуда сходить, ему всегда находилось, чем себя занять. В конце концов, от столь напряженной работы, иногда ему хотелось просто отдохнуть.
И теперь предоставлялась возможность отдохнуть не только от рутины рабочих будних, но и от встреч давних знакомых, от постоянных семейных забот, от однообразия улиц маленького города. И это обстоятельство внушало ему такую радость, на какую только способен мыслящий человек.
А между тем, незаметно для него, подошло время для регистрации, и к регистрационному пункту выстроилась разношерстная очередь из людей, сумок и чемоданов. Пожилая полная дама, ярко накрашенная и облеченная в летние вещи – свободное платье и шляпу, стоявшая в очереди, по-видимому, чем-то сильно недовольная, высказывала свое недовольство – громко, с интонацией, чтобы слышали в первую очередь пассажиры, а не работники аэропорта, на которых она была рассержена за то, что они, по ее словам, чуть ли не специально замедляли течение очереди. И все же, и работники регистрационного пункта, и пассажира рейса, на даму обращали мало внимания. Другие мысли занимали людей, большей частью своей летевших в отпуска. При одном взгляде на живую, двигающую свои сумки, вереницу замечалось, что куда свободнее и радостней были лица тех, чьи руки не обременяла ноша внушительных размеров. Те же, кто полностью удовлетворил желание отвести родственникам и знакомым несколько килограммов северной рыбы, были озабоченнее. За каждый килограмм сверх положенного на человека нужно было переплачивать. И хоть, впоследствии, организации покрывали эти затраты – этот факт утешал лишь отчасти, потому что осуществлялся по приезду, а как известно, денег на отпуск всегда не хватает, и не только жителям севера.
И это с учетом того, что жители севера, в то недалекое от наших дней время, считались людьми обеспеченными, ведь на север приезжали со всех концов нашей необъятной родины, и не только из России, а из всех стран бывшей империи – СССР, преимущественно затем, чтобы заработать себе материальное состояние. Впрочем, этот факт имел двойственную подноготную. С одной стороны продукты и вещи, и разная домашняя утварь, в общем, все то, что необходимо человеку для удовлетворения материальных нужд, на севере стоит на порядок дороже, чем в других областях нашего государства, и поэтому при расходовании большой зарплаты на дорогие материальные блага существенной разницы не замечается. Однако при выезде за пределы северных территорий, эта разница чувствуется остро. В первую очередь по этой причине, московские таксисты наперебой встречали чуть ли не у самого трапа пассажиров, не так давно вдыхавших холодный воздух и видевших в середине июня, по окраинам дороги, нерастаявший снег, и приглашали довезти их по адресу, и чуть не донести на руках до нужной квартиры.
Иван Петрович, после четырехчасового перелета, был выспавшимся, но сильно проголодавшимся, во-первых потому что не успел полноценно позавтракать дома, а еще оттого, что проспал выдаваемый в самолете обед. Никто его не разбудил, да и, наверное, было бы бесполезно пытаться, потому что после бессонно проведенной ночи в суете последних сборов, на мягком, пассажирском кресле почивал он крепко. Легкая сонливость покрывала его лицо, когда он решил зайти в кафе, чтобы перекусить.
В придорожном кафе было мало народу, и, тем не менее, невзирая на богатый выбор мест, Иван Петрович прошел мимо нескольких столиков и присел у самого окна. Бурная жизнь кипела за этим окном, а он все еще жил той – спокойной и размеренной. Вскоре подошел официант и вежливым, услужливым тоном предложил толстое меню, обрамленное в коричневую, кожаную обложку с золотого цвета буквами. Иван Петрович взял его и, внимательно оглядев содержимое, словно перед ним лежало не меню, а официальный научный доклад, остановился на одной из страниц. Цены ему показались вполне сносными. Он заказал скромный обед, и тут же вынув из кармана потрепанный бумажник, без каких-либо задних мыслей вытащил из него несколько купюр для того, чтобы сразу расплатиться по счету. В это короткое мгновение в глазах официанта блеснул сладострастный огонек, который, словно юркий полевой зверек, ускользнул от внимательного взгляда Ивана Петровича. То ли от того, что во время долгожданного отпуска он решил расслабиться и перестал обращать внимание на всякого рода мелочи и детали, то ли оттого, что еще не до конца прошла его дремота, он не заметил даже и того, что официант – энергичный, юркий, сутуловатый молодой человек, пользуясь минутной заминкой, многозначно подмигнул бармену. Бармен – полный, лысоватый здоровяк, который, по всей видимости, работавший и вышибалой по совместительству, неспешно вытирая бокал, учел этот знак и отправился в подсобное помещение. Как мы уже говорили, Иван Петрович категорически не употреблял спиртного, но, в кой то веки, изменив своему принципу, заказал бокал вина.
***
Москва ночная, суетная, многолюдная, словно бы гнала пешеходов по улицам, а автомобили по гладкому, в некоторых местах отражающему световую гамму шоссе. Ярко горели фонари шумного ночного проспекта, но какого именно проспекта Иван Петрович не имел ни малейшего представления. Кое-как удалось ему разглядеть надпись на ближайшем доме, кое-как сообразить, что это название улицы. Ни паспорта, ни бумажника, ни даже авиабилета, который нужно было обязательно сохранить, чтобы на работе возместили затраты на дорогу, ничего этого не нащупал он в карманах его изодранных брюк. Теперь, в его нынешнем положении, ему казалось, что всю свою сознательную жизнь он пролежал на этом месте, под блекло мерцающим фонарем, в лохмотьях, измазанный грязный, никому не нужный. Иван Петрович, в одночасье, стал бомжом, и у него в одночасье создалось впечатление, что как будто он и всегда им был.
Насильно встав на ноги, он окончательно очнулся. Незнакомая атмосфера, не только незнакомая уму, но даже и сердцу, окружала его со всех сторон. С правой стороны от него стояли высотные здания, с левой, вдалеке, виднелась проезжая часть. Он машинально повернулся и пошел прямо. Куда он идет, он и сам не знал, но вспомнил, что для того, чтобы согреться нужно пройтись скорым темпом. Но через какие-нибудь полчаса он устал, в голове зашумело, в глазах потемнело, и он, долго не думая, сел на тротуар. На этом же тротуаре, спиной к одному из домов он уснул, и проспал до обеда следующего дня.
А дело заключалось в том, что, сравнительно высокие доходы жителей севера, до поры до времени, становились заманчивой приманкой для мошенников и грабителей. Нередки происходили случаи, когда при обмене валюты, или в том же аэропорту только что приехавших пассажиров, даже не трудились обманывать, а просто убегали, как только получали в руки бумажные купюры. Бывало и такое, что, наглым образом, обкрадывали до последней нитки. А ведь, как известно, без паспорта ты – никто. И даже если ходишь, разговариваешь, и по лицу видно, что ты не пьющий, все одно – ты уже не полноценный член общества. Ты изгой.
В том, что он изгой, Иван Петрович, в скором времени, убедился воочию.
***
Природа, всем своим поведением, как будто отражала безнадежное положение Ивана Петровича. Следующий день выдался пасмурным, плаксивым, и для Москвы непривычно унылым. Скользкие лужи окропляла моросящая дробь, а пронизывающий ветер пробирал до самых костей. Москвичи и просто успешные люди, и уже тем успешные, что не валялись на мокром асфальте, и имели, куда скрыться от дождя, прячась под зонтами, торопились еще стремительнее и живее. А Иван Петрович шел потерянный, шел, куда глаза глядят, не понимая и не помня, и даже представления не имея, в каком направлении ему двигаться и в какие инстанции обращаться. Он ничего, ровным счетом ничего не помнил и не знал, кроме того, что могла подсказать ему улица. А меж тем, был уже второй час дня, и он уже несколько часов испытывал голод. Подойдя к одному из прохожих, лощеному, ухоженному молодому человеку в кожаной куртке, с браслетом на руке, который в ожидании автобуса, стоял и вальяжно попыхивал сигаретой, он попытался просить у него мелочь, но получил отказ, причем в грубой форме со всеми, так называемыми, богатствами, а я считаю – излишествами русского языка.
– Да отвали, я сказал! Достали уже, – бросил напоследок паренек, по всей видимости, мажор, перед тем, как зайти в автобус.
На остановке не осталось никого. Холодное ощущение одиночества охватило бездомного человека, который стоял, сгорбившись, пытаясь подавить чувство подавленности, внезапно дополнившее в его сердце чувство одиночества. В душе ему стало горько и от резкого отказа и от того, что не с кем было поделиться гнетущей тоской. Сглотнув слюну, появившуюся ни то от голода, ни то от горечи обиды, он сунул руку в карман в надежде найти там хоть пару бумажных купюр, но вместо этого нащупал всего несколько монет, за которые, сразу понял, что не купит ровным счетом ничего – не те времена были теперь.
На улице заметно похолодало, хоть дождь уже давно закончился. Подошел трамваи и, остановившись на считанные минуты, продолжил свое механическое движение. Воздух посвежел, очистился и налился кислородом, и от этого еще больше захотелось есть. Немного поразмыслив над тем, где вернее всего отыскать хоть какое-нибудь пропитание, он побрел искать питейное заведение, надеясь на то, что уж на кусок хлеба его посетители ему не пожалеют.
И в этом он сильно ошибся. Из всех обойденных им ресторанов, кафе и закусочных выскакивали люди, и довольные, радостные, смеющиеся проходили мимо, не обращая и доли внимания на его просьбы. В конце концов, от безрезультативности этих прошений, он отчаялся, и сел, опершись спиной к стене одного из ресторанов, откуда его, в скором времени, прогнал широкоплечий, круглолицый охранник в классическом пиджаке.
***
Вокруг мусорных баков слонялись бродячие собаки и обнадеженными глазами просили, чтобы бережно рывшийся в продуктовых отходах бомж кинул им что-нибудь поживиться. Бомжа этого звали Аркадием Васильевичем Сухомяткиным, и работал он до перестройки слесарем, а после нее попал под сокращение, запил, получил разводную от жены, которая отсудила у него все движимое и недвижимое имущество, и пополнил ряды заядлых алкоголиков. В одно время он даже пытался наложить на себя руки, сообразил для этого все необходимое, назначил даже время, и, допив литровую бутылку водки, решился на отчаянный поступок. Попытка бы увенчалась успехом, если б не вытащившая его из петли соседка, так некстати, зашедшая поглядеть на его житие-бытие. До развода эта соседка наведывалась чаще и строила ему глазки, а когда все-таки произошел ожидаемый развод, по какой-то непонятной причине потеряла интерес и заходила так, только чтобы поговорить и выпить с ним рюмку другую. После неудачной попытки суицида, Аркадий Васильевич захотел жить, но жить по-прежнему у него уже не получалось. В сжатые сроки квартира перешла в полноправное владение жены, и ему уже совсем не находилось в ней места, а потому он переселился в комнатушку, которую дал ему на временное пользование старый товарищ, который, на волне приватизации, подался в бизнесмены, и которому эта квартира была как напоминание социалистической несправедливой усредненности. Около полугода Аркадий Васильевич прожил один в этой маленькой, тесной, но теплой квартирке, и теперь вспоминал о ней как о милом, уютном пристанище. Из квартиры его выгнали, после устроенной в один вечер попойки, и вызова милиции, и штрафа за выбитую соседскую дверь. Кто это сделал Аркадий Петрович так и не понял, но все улики указывали на него и на его собутыльников. Немудрено, что прежние знакомые от него отказались, а приятель, вообще, после этого неприятного случая, не отвечал даже на копеечные звонки из автомата, как будто они никогда и не были друзьями, по всей видимости, оттого, что в его владении было уже несколько крупных магазинов. Осознавая свою ненужность и покинутость, бывший слесарь все чаще и чаще, на выпрошенные у прохожих деньги, со случайными знакомыми, такими же как и он бродягами, пил горькую. Такая вроде бы обыкновенная история одного невзрачного бомжа, о которой, конечно же, не подозревал ни один из людей, видевших его роющимся в мусорном баке.
– Здорово, братюня, – оглядев с ног до головы и признав в нем, что называется, своего, – с приветственной улыбкой бросил Сухомяткин. – Ты чего как не родной? – спросил он, имея в виду очевидную потерянность Ивана Петровича и выражение брезгливости в его глазах, какая обычно появляется при необходимости делать то, чего делать противно, но делать жизненно необходимо.
Иван Петрович немного опешил от такого обращения, стушевался, в душе сжался, и не минуту или две не знал даже что ответить. Хоть и память ему изменила, хоть и не знал он с какого он города, и какого рода профессией владеет, и как так вышло, что он скитается по улицам в поисках пропитания, но в душе, он все же чувствовал, что к такому обращению нисколько не привычен.
– Да ты, видимо, не из местных, – продолжал свое дознание Сухомяткин. – Не московский что ли? – будучи сам коренным москвичом, и научившись отделять своих земляков от иногородних по смелости, напористости, и временами даже наглости, задал наводящий вопрос Аркадий Васильевич.
– Я как вам сказать, – начал нерешительно Иван Петрович. – Я и сам не знаю, откуда я.
– Не ты брат даешь, до такого допиться. Я сам, конечно, не без греха, от этого дела, в нужное время, не нашел сил отказаться, но чтобы до такого, это уж слишком, это уж чересчур, – кряхтя сигаретной клокотью, застрявшей в легких и не дававшей себя выпустить наружу, и между тем, не обращая на нее внимания, отбрасывая не интересующие его пустые пакеты в сторону, чтобы расчистить путь для поиска чего-нибудь съестного, с чувством собственного достоинства, говорил Аркадий Васильевич. – Присоединяйся, чего стоишь, – добавил он, после короткой паузы.
И Иван Петрович, понимая, что другой альтернативы перед ним не раскрывается, встал у соседнего бака, и принялся, аналогично своему теперешнему товарищу, копаться в разрыхленном, столичном мусоре, правда, с меньшим упорством, но с большим вниманием и усердием, подобно ювелиру, разглядывающему дорогие украшения. Занятие это, в скорое время, ему стало приятным и успокоило надеждой на удачный «улов», если бы не жуткий смрад, неожиданно вырвавшийся и резко пронзивший его в обе ноздри, заставив даже прослезиться. По всей видимости, в баке почивала мертвым сном крыса, а его, видимо, давно не опустошали, по крайней мере, ее земная оболочка успела претерпеть необратимые изменения. Удушливый, трупный запах умершего животного донесся и до Аркадия Васильевича, но он, словно бы не обращая на него ни доли своего внимания, а между тем, отстранившись подальше, насколько возможно было, чтобы оставаться у мусорного бака, еще не до конца исследованного, с напускной презрительностью ухмыльнулся брезгливости случайного знакомого. А между тем, он ни капли подлинного презрения не чувствовал к нему, а выражал его скорее для формальности, как бывает, выражают его бывалые работяги или спортсмены, или профессионалы высшего звена менеджеров, которые ухмыляются недостаточной компетентности своих новоприбывших, как правило, молодых коллег, прекрасно понимая и помня, что такими некогда являлись сами.
Высотный дом, с недосягаемым зрению числом этажей, возвышался в нескольких метрах от них и, складывалось впечатление, что, как будто, укоризненно поглядывал бесчисленным множеством оконных глаз на двух некогда приличных людей, а теперь вот, по воле судьбы, или по собственному недоразумению, невнимательности, оплошности, опустившихся до нижайшей ступени социальной лестницы. А два бомжа рылись в зеленых, тускло окрашенных баках, и не обращали на этого неодушевленного, строгого наблюдателя своего внимания, (хотя в душе чувствовали своеобразное мистическое наблюдение), просто потому что Аркадий Петрович уже окончательно смирился со своим положением, а Ивана Петровича мучил беспощадный голод. Второй день подряд, как он ничего не ел.
***
Была уже ночь, когда, наконец, они поняли, что перерывание содержимого мусорных баков потеряло всякий смысл, потому что не приносит желаемого результата, но, не желая с этим мириться, все же продолжали надеяться найти какой-нибудь недоеденный кусок или полупустую банку тушенки, и не отходили от уже не единожды перебранных бачков. Первым опомнился Аркадий Петрович. – Пойдем, – сказал он сухо, отстраненно поглядывая в сторону, нахмурив слегка густые брови, пытаясь ликвидировать сухость в горле, наличие которой не хотел демонстрировать.
– Пойдемте, – покорно согласился Иван Петрович, оглядывая консервную банку, на этикетке которой красовалось изображение выхоженной овчарки с лоснящейся шерстью, коричневатого окраса.
– В ночлежку нам, наверное, идти уже нет смысла, – задумавшись и для этого остановившись, заключил Сухомяткин. – Там уже и день наступит. А днем-то чего, надо искать жратву самостоятельно, – искусно прикрыл он то обстоятельство, что в ночлежке, после некоторого времени, его принимали нехотя, по той причине, что характером он был дотошным и назойливым.
Покончив с перебиранием мусора окончательно, они побрели по слабоосвещенной улице, каких в Москве немного, свернули в проулок, и, выбрав лавочку, присели на нее, а Аркадий Петрович, вскоре, и прилег, и, судя по душераздирающему храпу, удивительно быстро заснул. Иван же Петрович еще долго сидел и сосредоточенно мыслил, и никак не мог не то чтобы уснуть, но даже полноценно расслабиться у него не получалось. Сон его, то ли от голода, то ли от ночного холода, то ли от многочисленных мыслей, пропал совершенно. И результатом потери потребности в полноценном отдыхе стало то, что он решил немного пройтись всего-то до соседнего двора.
Кромешная тьма сопровождала ночного путника вдоль домов, и расступалась при свете редких фонарей во дворах, на узких дорожках которых были тесно усеяны автомобили, большей частью иномарки. Задумавшись, он шел, временами спотыкаясь о тротуары, временами о собственные уставшие ноги, но продолжал упорную ходьбу, словно убегая от нынешней доморощенной жизни, от водоворота, в который, без его собственной воли, окунула его судьба. Тем не менее, пройтись ему пришлось всего несколько дворов, в которых он не нашел для себя ничего интересного, то ли от того, что действительно не было ничего интересного, то ли по той причине, что, погрузившись в беспорядочные размышления, он почти оторвался от реальности. Но не осознание того, что нужно идти обратно, или собственная усталость заставили его обернуться, и чуть ли не бежать назад, спотыкаясь пуще прежнего, и падая, и раздирая себе в кровь колени, а крик, вернее сказать, вопль, дикий, непредсказуемый, нечеловеческий, истошный заставил его бежать без оглядки, без мысли о самосохранении, точно не помня, куда надо бежать, но бежать в правильном направлении, по наитию, по внутреннему ориентиру, следуя душевному зову. Это кричал Аркадий Петрович, и кричал оттого, что его ожесточенно молотили группа молодых людей, в спортивных костюмах.
– Вы что делаете, оставьте, оставьте его, – подбегая к ним, попытался угомонить, разгневанную молодежь Иван Петрович, но безуспешно и в ущерб себе. Его мало, что не стали слушать, так еще и один из крепких, рослых парней огрел его кулаком по носу, от первого удара у него потемнело в глазах, от второго он еле удержался на ногах, а от третьего уже ничего не чувствовал, не видел, не слышал.
***
– На выпей, – понимающе произносил Аркадий Васильевич, стоя у изголовья и протягивая ему чистую, прозрачную бутылку минералки, только что купленную в одном из ларьков, на пожертвование одного молодого человека в официальном костюме, спешившего куда-то, но остановившегося и вынувшего «миллионную» купюру, и пожелавшего, напоследок, божьего благословения. – Пей, пей, полегче станет.
Иван Петрович попытался поднять голову, но она оказалась для шеи слишком тяжелой, и к тому же малейшее движение причиняло тупую ноющую боль. От воды он отказался, но приятель настоял и поднес ко рту его бутылку, чтобы только смочить губы. Однако почувствовав губами живительную влагу, герой наш поднапрягся, с болью поднял голову, а затем и все туловище, что оказалось необыкновенно трудно, и выпил жадно несколько глотков, отчего у него в животе забулькало и заурчало. Его организм впитывал воду, пытаясь извлечь из нее все питательные вещества, и это отчасти удалось, мучивший его голод притупился. Правда, даже если бы сейчас посчастливилось и выпала возможность сытно перекусить всевозможными блюдами, даже экзотической кухни, Иван Петрович вынужден бы был отказаться, оттого, что теперь у него, во рту, не доставало нескольких зубов, а сломанный нос позволял дышать только ртом. После выпитой воды, он, откашлялся, как от чахотки, как будто вдохнул едкого дыма от пожара, и от того в области груди заболело еще сильнее, но деваться было некуда. Все оттого, что, во время избиения, кровь из носа пошла в горло, а затем и в легкие, и сгустки ее теперь там крепко засели, и не хотели выходить наружу, и этой своей вредностью раздражали дыхательные пути. А Сухомяткин, не дожидаясь расспросов, предполагая, видимо, что без них не обойдется, начал освещать вчерашнее происшествие.
– Представляешь, заснул же я вчера, заснул крепко, и чувствую, дым, просыпаюсь, смотрю, горю весь. А эти сволочи стоят и смеются, ну я их послал, фуфайку скинул, эх … жаль, хорошая была фуфайка, и короче это, они меня бить, – рассказывал он, слегка заикаясь от волнения и от чувства обиды и бессилия что-либо тогда сделать. – Ну, я, значит, кричать, полицию звать, а кого-там, кто нас за людей-то считает, – уныло опустив голову, от осознания бесправности своего положения, на минуту прекратил печальное для него повествование Аркадий Петрович. И тут же, сдавливая неприятный ком в горле, продолжил, но ненадолго, не настолько как сам того хотел, – ну тут и ты подбежал, ну они и тебя, если помнишь …
Иван Петрович слушал молча, силясь что-либо сказать, но, не имея наглости и основании перебить, а после завершения рассказа и вовсе посчитав, что слова его неуместны, вполне осознал тяжесть жизненного положения своего и не только своего, а и нового друга его и товарища, с которым они хоть и знакомы были всего ничего, но имели теперь много общего, имели общую беду, неразделенную душевную боль. Они были мало знакомы, но теперь им казалось, что всегда были друзьями.
***
А между тем, весть о пропаже выдающегося хирурга и порядочного семьянина, о его резкой пропаже в неизвестном направлении, достигла и маленького северного городка, и в нем, не на шутку спохватились, и не только коллеги и администрация, но и множество малознакомых ему людей перешептывались, и недоумевали у себя на кухне, на работе, в банях, и в магазинах, куда же это мог запропаститься такой выдающийся человек, что с ним теперь стало, какие последствия будет иметь его пропажа, кто его заменит, ведь таких врачей днем с огнем не сыщешь. Предположения строились разные: одни говорили, будто бы он сбежал с любовницей, потому, что, по их предположениям у него имелся порядочный капитал, достаточный для того, чтобы тайно сбежать с любовницей за границу, жестом этим, якобы, оставляя о себе добрую, незамаранную таким гнусным поступком, память; другие поговаривали, что, быть может, его похитили и пустили на органы; некоторые, со знанием дела утверждали, что его убили, просто по ошибке перепутав с каким-нибудь должником, или из-за денег, которые он при себе имел. Редкие полагали, что он все еще жив, но, при этом, находится в трудном положении, не зная и даже не догадываясь, откуда он, и кто он, кроме того, что человек. Одним словом в городе поднялась закулисная суета. Тем не менее, посуетиться-то посуетились, а все же не забыли и о действии: сообразили комиссию, небольшую, состоящую из некоторого количества человек, вытребовали денег от администрации, или администрация сама дала, и выделила своего представителя, в общем и целом, после кратковременных сборов, полетели в столицу нашей родины искать потерявшегося земляка.
***
О созданной комиссии два бомжа, конечно же, слыхом не слыхивали, и, естественно, в глубине души даже не догадывались, по какой причине она была создана, да если бы даже их и осведомили, то каждый из них, как и полагается человеку несведущему, вряд ли предположил бы, что по его душу. Ну, какое, позвольте сказать, отношение имеют два бродяги до какой-то комиссии, созданной в далеком, провинциальном, северном городе. В том сомнения не было, что никакого абсолютно. Поэтому, невзирая на ее моментальное создание, они продолжали мысленно искать пути выхода из сложившегося положения самостоятельно. Аркадий Васильевич, наконец, осознал в полной мере, и во всем трагизме, суть своего нынешнего положения, отчего пригорюнился, что называется, до того пригорюнился, что аж тяжело дышать стало. И мысли никакие по улучшению своего положения не посещали его ум, а только еще более заунывные, вызывающие у него нестерпимую внутреннюю горечь. Иван Петрович ничего не осознал наверняка, потому что еще не до конца смирился, потому что понял, что с ним произошло, понял, что, не по своей вине потерял память, что, быть может, первые предположения, по части того, что он всегда был бродягой, его были не верны, и не далек тот час, когда его примутся искать. Однако он предполагал, что искать его будут люди из этого города, что все знакомые люди, и родные живут в этом большом, густонаселенном мегаполисе, и что он всегда жил, и только теперь все на свете вылетело из его памяти. Смутные, обрывочные воспоминания, конечно же, возникали в его сознании, но лишь расплывчатые и не совсем ясные, то ли это все, в действительности происходило с ним, и он имел семью, и детей, то ли их только видел в своем воображении, потому что хотел их видеть, хотел иметь семью, и это всего лишь его мечта.
– Пойдем, – приняв на себя роль предводителя, молвил Сухомяткин, на самом деле, не зная точно, в каком направлении выбрать свой путь, но зная определенно, что двинуться обязательно надо, чтобы только не сидеть вот так вот – потерянно, в удушающей, грузной атмосфере.
– Пойдемте, – в очередной раз послушно согласился Иван Петрович, не имея силы опровергать его первенство в укрепившийся теперь дружественной связи, да и не имея привычки противоречить, когда это существенно не могло повредить делу (такой был у него характер).
Шествуя параллельно, они пошли по столице, стараясь двигаться по запрятанным между высоких домов улочкам, стараясь не встречать прохожих, чтобы быть, якобы, незамеченными. Конечно же, голод совсем измучил, но горькое ощущение обиды у Аркадия Васильевича, на все это общество, на государство, на развалившуюся империю, наконец, на жену свою, было сильнее чувства голода и поглощало его, и назло всем он хотел этот голод терпеть, и умереть от него, чтобы им стыдно было за то, что такое допустили. Но потом он оглядывался, приходил в себя, понимал, что значит жизнь человека, да и не человека вовсе, а бомжа, и, опустив голову, вздыхал, чуть ли со всхлипом и двигался дальше. Его спутник замечал его удрученное состояние и оно, отчасти передавалось ему. Скользящими движениями острого лезвия оно задевало его душу, потому что Иван Петрович умел сочувствовать. Он попытался заговорить, но, только открыв рот и издав непонятный звук, понял, что не стоит, что для беседы не время, и продолжил бренное молчание.
Улица словно вторила им, она была хоть и людна, но, казалось, беспрекословно разделяла их душевное расстройство. Завывая мотором, гудели автомобили, словно издавая стоны от непрерывного пользования ими и усталости, которая на языке техники называется износом, проносились, ревя мотором, мотоциклы, как дикие кони, не знающие, за что и куда их с такой бешеной скоростью гонят, ветер колыхал деревья, а деревья, казалось, понимали все лучше других. Первым прервал молчание Аркадий Петрович.
– В ночлежку, может быть, пойдем, – смирившись с тем, что его там без радости встречают, да с какой-то даже неприязнью, предложил он.
– Я, в принципе, не против, – отвечал Иван Петрович неуверенно и отвлеченно, лишь бы угодить товарищу.
Сухомяткин даже немного раздражился такой непривычной для него покладистости, но немного подумав, осознав, что для раздражения нет истинного повода, унял его в себе, собрался с мыслями, огляделся по сторонам, и, предположив какой путь оказался бы для них кратчайшим, ровной походкой, уверенным шагом лидера двинулся в известном только ему одному направлении. Впрочем, его уверенность продолжалась недолго. Совсем вскоре он перешел на медленный шаг, а через несколько минут спустя, совсем опустился душой и несколько раз подряд поворачивал даже не в ту сторону. Иван Петрович на это не сетовал, хоть и ноги его, от долгой ходьбы, которая ему, как провинциальному жителю была ему непривычна и утомительна, одеревенели, и которые он волочил, шаркая по асфальту изорванной обувью, некогда имевшей вид презентабельных туфель.
– Здесь нам, пожалуй, направо, – создавая вид уверенности, но явно, что сильно сомневаясь, проговорил Аркадий Васильевич. – Слушай, я все никак не могу понять, ты, что города совсем не знаешь? Как тебя вообще сюда занесло?
– Да сам не знаю. Это для меня тоже загадка. Ничего мне здесь не известно. Куда мне идти представления не имею.
– Я сначала не обратил внимания, сразу подумал, что ты из наших, но новенький, ну я имею в виду из здешних, местный, короче говоря, ну ты меня понимаешь, в общем. А теперь, пригляделся, я тебя этого просто не говорил, еще давно пригляделся к твоей одежде и понял, что ты не местный. Одежда у тебя новая, хоть и местами порванная. Тебя, видимо, ограбили. Сейчас такое часто случается. Разгул, криминал, безнаказанность теперь – норма. Тебе бы вспомнить только, откуда ты.
– Да в этом то и проблема, что не могу, хоть и стараюсь вспомнить, но не могу! – чуть не закричав от бессилия, что-либо вспомнить, что выходило за пределы свойств его натуры, ответил Иван Петрович.
– Но лучше постарайся, изо всей силы, – советовал Сухомяткин, проводя нехитрую параллель, как будто память человеческая подобна мышце, от напряжения усиливающейся и принимающей надлежащую форму.
– Да не могу я, – наконец, потеряв окончательно терпение, что, по всей видимости, и входило в планы Сухомяткина, резко ответил Иван Петрович, но заметив на его уста подобие ухмылки, тут же поправился уже спокойнее, – не могу, просто не могу вспомнить.
– Да ладно, не серчай, я же так, чтобы тебе лучше было, – лукавя, почти шепотом, объяснился Сухомяткин, этим самым, неумело скрывая потребность нагнетать на других гнетущие чувства, когда погано бывает в душе самому, и, успокаиваясь от вида того, что и другим свойственно беспокоиться и раздражаться, и все мы, как говориться, не без греха.
Тем не менее, сиюминутная раздраженность его спутника, на секунду только порадовала Сухомяткина, и ни в коей мере не успокоила его совсем. Прежние мысли, гнетущие мысли, с большей силой стали овладевать его умом и памятью. Ему вспомнилась его прошлая жизнь, работа, тотальная социальная усредненность, спокойствие, хоть и нарушаемое, время от времени, погоней за дефицитными продуктами и вещами. Но то было беспокойство терпимое, временное, конечное, потому что по части дефицитных продуктов ему приходилось суетиться только лишь по праздникам, когда намечался богатый убранством стол, а за модными, стильными вещами он не гнался, и у перекупщиков даже их не приобретал, только если для жены, и то по случаю. А теперь жизнь состояла из череды серых, повторяющихся будней, нагруженных не такой силой беспокойства, вернее беспокойства как такового вообще почти не было: не нужно никуда уже было успеть, ничего редкого не приходилось покупать, не надо было оправдать чьих-то циничных надежд, в общем, не нужно было ничего, что обычно стараются выполнить большинство людей, живущих в общей системе материальных ценностей. Но сейчас, в самом низу, казалось, что существовало другое беспокойство, завуалированное, скрытое, мизерной силы, но постоянное, как капли непрекращающегося дождя. Беспокойство это произрастало царапающими корнями в душе из-за того, что жизнь проходила мимо, и многие радости, доступные хоть сколько-нибудь обеспеченным людям, хоть где-нибудь работающим или не работающим, но все же зарабатывающим на жизнь другими, менее законными способами, корило его за то, что он до такого опустился и упустил свой шанс иметь то, чего сейчас у него не было, и чего ему так не доставало. Тогда это все не ценилось. И хоть жилье было скромное, и заставленное старой, списанной мебелью, которую он по долгу службы выпрашивал у знакомых на заводе, и питание его не отличалось особым разнообразием: обычно на утро яичница или овсяная каша, или гречневая, которую он так не любил и давился ею, а иногда и ругался с женой, все же, условия прошлой жизни казались сейчас настолько комфортными и недосягаемыми, что аж хотелось плакать, но слезами ничего не вернешь. Вокруг царило одно людское равнодушие. И от осознания этого равнодушия Аркадий Васильевич обижался и негодовал, и злился, и чуть ли ни задыхался, а потом затихал, впадал в уныние, выглядя совершенно потерянным.
Ко всем прочим раздражающим факторам, подмешивался и тот, что, навязанный ему судьбой, спутник был спокоен, задумчив и вроде бы даже доволен, по крайней мере, что можно утверждать с уверенностью, и что было явно им обоим, имел надежду. У Аркадия же Васильевича этой надежды не было, и оттого еще сильнее уныние овладевало им. К тому же, возникала зависть спокойствию его друга, и зависть к этой надежде, возможности увидеть тех людей, которым Иван Васильевич был дорог. Но, невзирая на то обстоятельство, что оба они находись в незавидном положении, и уместнее, если и завидовать, то завидовать людям, проезжающим на дорогих автомобилях, в дорогих одеждах бегущим по городским ландшафтам, все-таки чувство зависти пробудилось и подпитывалось именно этим смиренным спокойствием его спутника (хотя нельзя сказать, что Иван Петрович был чересчур уж спокоен, просто за годы лечебной практики он научился не показывать чувств). И это чувство зависти произрастало в душе Сухомяткина с такой силой, что, подобно чертополоху вытесняло ростки благодарности за помощь, оказанную Иван Петрович, в ущерб себе, во время нападения хулиганов. В конечном итоге это чувство зависти достигло такой силы и мощи, что окончательно поглотив ростки благодарности, стало захлестывать и последствия недавно произошедшего события. Сухомяткин и сам себе не хотел признаваться, что испытывает неприязнь к Ивану Петровичу за то, что ему меньше досталось, что не его подожгли, и не на него напали в момент беспробудного сна. Все эти противоречивые чувства кипели в душе Сухомяткина, и не давали ему покоя, и глядя на своего спутника он еще более раздражался, и в конечном итоге, кроме жалости к себе и неприязни к своему товарищу, разделявшего с ним тяготы нищеты, в его душе более ничего не осталось.
В завершение ко всему Сухомяткин совсем вышел из себя, когда спутник его ни единого слова роптания не произнес даже когда они начали плутать, причем, в строгости придерживаясь плана Сухомяткина.
– Ты ничего не замечаешь, в конце то концов, мы вроде бы здесь проходили, – осветил свое наблюдение Аркадий Васильевич с заметным жаром возмущения.
– Да вроде бы проходили, – устав от продолжительного плутания по улицам и дорогам, полушепотом произнес Иван Петрович.
– Да чего ж ты промолчал, если заметил!? – почти криком бросил Сухомяткин.
– Так я ведь, не знаю, где ночлежка, я думал, что вы знаете … – стал нерешительно оправдываться, и открещиваться от неожиданного обвинения неизвестно в чем, но явно, что обвинения напористого, заранее сформулированного, с эмоцией, так сказать.
– Какой же вы народ не смышленый, интеллигенты, – язвительно произнес эту фразу Сухомяткин, вложив в нее всю ненависть к интеллигентам с которым имел, неприятную для него самого, необходимость пересекаться на протяжении всей своей жизни, и которых презирал за несмышленость, потому что, вроде бы, они и почитались умными, образованными, и преуспевали в определенном роде деятельности, но, по его убеждению, элементарных вещей не замечали, элементарными знаниями не владели. К чувству собственной неполноценности, привитому еще в школьные годы, дополнялись и упреки жены по части того, что сосед, школьный учитель, всегда опрятен, чист, культурен, почти не потребляет спиртного, а он, дескать, муженек ее, кроме того, что в словах не сдержан, а и помыться (казалось бы, чего еще проще, чтобы угодить жене) а и об этом забывает. «Ей, конечно, легко рассуждать, в конторке работает, – думал не раз Сухомяткин, приходя домой после тяжелого дня, тяжелого иногда от рабочей загруженности, иногда от пьяной посиделки в конце его, – она, как никак, в конторе работает. Да и много ли ума надо, начислить зарплату в конце месяца. А я каждый день вкалываю, да еще и начальству всегда не угоден. А между прочим ведь, чтобы батарею починить, тоже ведь ум нужен, интеллигентки ведь этого не умеют».
Сухомяткин, как уже, наверное, догадался читатель, взгревал в себе эгоизм, эгоизм весьма распространенный, заключающийся в оценивании элементов окружающего мира только по тому, каким образом они воздействуют на него самого. Поэтому, немудрено и не удивительно, что в своих размышлениях Аркадий Васильевич придерживался позиции ограниченной, в основе своей имеющей лишь высокое оценивание своего труда и собственных, пусть даже и немаловажных для общества способностей, профессиональных навыков. Он не любил начальство, даже разумное начальство, которое, время от времени, чередовалось, не только за порицания и контроль, но даже и за похвалы, которые, как он считал, произносились лицемерно и только для того, чтобы выжать из него последние жизненные соки, а проще говоря, чтобы он трудился как вол, не получая за это материальной награды. А повышения зарплаты требовала жена, как будто она, всецело, зависела от трудолюбия Аркадия Васильевича, а не была установленной соответственно графику рабочих часов нормой. В общем, что и говорить, присутствовали трудности и в прошлой жизни Аркадия Васильевича, но даже размышления над этими трудностями казались ему теперь приятными. И он не прочь был снова испытать их. Но шанс был упущен безвозвратно. И если выражаться образно, то поезд, пассажиром которого он, до определенного момента, являлся, после его временного выхода на остановке, неожиданно, без предупреждения, сорвался с места, и стремительно продолжил свое движение, и сесть в него уже никак не получалось, как бы он не молотил по окнам, как бы не колотил дверь, поезд неумолимо набирал скорость, и возрастание этой скорости безжалостно гасило надежду на возможность снова стать его пассажиром. И от осознания невозможности, снова стать полноценным членом общества непередаваемой горечью отзывалось в душе бродяги, никому не нужного, кроме одного Бога.
***
Погода отчего-то совсем испортилась, и даже на человека, не обречённого влачить жалкое существование, вполне могла произвести удручающий эффект, в частности подпортить настроение разлетающимися брызгами от неугомонных колес и пронизать до костей ветровыми стрелами. Водителям тоже приходилось не сладко, дворники едва успевали смахивать с автомобильных стекл напористый водопад. Хоть действие происходило и в Москве, все-таки, в испортившейся погоде угадывался Петербургский климат. Сверкала молния, гремел гром, лил дождь, останавливаясь на какое-то время, а спустя непродолжительное мгновение спокойствия, снова обрушиваясь водяным градом на проспекты, улицы, и что самое неприятное – на головы двух бездомных, которым не было где укрыться.
– Думаю, надо зайти в подъезд, – вследствие природной перемены, причинявшей неудобства уже физические, переменив тон своих размышлений, и теперь не вспоминая о своем горе, а полностью сосредоточившись на окружающей действительности, на собственных ощущениях, предложил Сухомяткин, и, не дожидаясь согласия, которое знал, что обязательно последует, начал искать ближайший жилой дом.
Его спутник, молча, кивнул, и оправился следом, а через минут восемь они вдвоем забежали в подъезд.
– Теперь можно и передохнуть, – радостно заключил Аркадий Васильевич, радуясь словно ребенок, укутавшийся в тонкий плед, зимой, с тем условием, что во всей квартире отключили отопление, ведь скудная одежда вымокла на нем, как принято говорить, до нитки.
Попутчик его был рад не меньше, но значительно более сдержан. Оглядываясь в незнакомом пространстве, он осознавал, что никогда не видел ничего подобного: таких чистых, выметенных, чуть ли не блестящих лестниц, настолько широких квартирных площадок, до малейшей трещины окрашенных стен, потолков без падающей штукатурки, и, наконец, не ощущал такой чистоты подъездного воздуха, который был подобен уличному. Эти виды были новы его глазам, отчего они светились удивлением. Сухомяткин заметил удивление своего товарища, и улыбнулся с видом знатока или гида, проводящего экскурсию, и показывающего чуть ли не восьмое чудо света, после чего вольготно, с претензией хозяина всего дома, присел на третью лестничную ступень. Долгое блуждание по городу, спланированное им же самим, окончательно выбило его из сил, и, к тому же, он давно ничегошеньки не ел, поэтому не удивительно, что сон овладел им в процессе разговора, когда он, наконец, от души выговорился, и позволил говорить своему собеседнику, а сам, подперев голову ладонью, так, чтобы его лицо было укрыто от взгляда Ивану Петровича, который и так не слишком внимательно смотрел на него, отдался сонным грезам. И под его сопение в подъезде слышался одинокий монолог, у которого был один рассказчик и один слушатель. Однако же, вскоре Иван Петрович услышал вздрагивающий, сильный храп и прекратил свою речь. На время наступила абсолютная тишина. Продлилась же она ровно до той поры, пока один из жителей квартиры не вышел на площадку покурить. Здоровенный, лет тридцати пяти, мужчина, выйдя на площадку и поправив шорты, вытащил сигарету и, со смаком, затянулся. Он глянул на сидящих внизу бомжей, со злобой в глазах, но ничего не сказав прошел за лестницу, чтобы их не видеть. Какое-то время он попыхивал сигаретой, видимо думая о чем-то скверном, потому что лицо его демонстрировало отвращение. В конце концов, почти докурив, он с вызывающей резкостью обратился к ним.
– Чего здесь расселись, – став прямо, широко расправив плечи, с видом грозного повелителя, бросил он.
– Погреться зашли. На улице дождь, – растерянно ответил Иван Петрович, не ожидавший такого вопроса.
– А ну быстро пошли отсюда. Нассыте еще здесь. А потом убирай за вами, – процедил житель дома сквозь зубы.
– Да мы еще немного погреемся и пойдем, – умоляющим тоном произнес Иван Петрович, стоя и глядя наверх, словно раб, просящий подаяние у своего господина.
– Я сказал, быстро пошли отсюда, и чтоб больше я вас здесь не видел. Давай, буди своего охламона, и валите отсюда подальше. Не бесите меня, – процедил сквозь зубы здоровяк, с едкой ненавистью.
Понимая, что дальнейшие просьбы не имеют смысла, Иван Петрович принялся будить Сухомяткина, который спал крепко, и сквозь сон, машинально, отмахивался руками, и что-то невнятное бормотал про жену. Тогда стоявший наверху амбал, спустившись, с силой, ногой толкнул его в спину. От полученного шока Аркадий Петрович уже проснулся в полете, а от силы толчка чуть не влетел лицом в стену, но в последние секунды, вовремя, подставил руки. Ничего еще не понимая толком, он огрызнулся, отчего еще получил оплеуху такой силы, что чуть не перевернулся в воздухе, и понял, что дальнейшее, даже словесное, сопротивление, как минимум бессмысленно, а как максимум может привести к тяжелым для него последствиям.
– Мы уйдем, мы обязательно сейчас уйдем, не нужно, – попросил Иван Петрович.
– Давайте. И пошевеливайтесь, – властно отчеканил столичный житель, почитавший всех провинциалов недочеловеками, а бомжей вообще не людьми, и только коренных москвичей высшей расой.
– Спустимся. Сделаем вид, что уходим. Хлопнем сильно дверью, а потом опять поднимемся. Кого бы еще слушали, – привыкший уже к подобному отношению, на ходу, освящал свой план Сухомяткин.
– А если, вдруг, он решит проверить, что в таком случае будет?
– Очень вряд ли. Не думаю. Постоит еще пару минут, поглядит, выполнили ли мы его указание, (таким ведь только и важно, чтобы их указания выполняли, можно подумать, подъезд ему важен), а потом уйдет спать. Ночь ведь уже давно на дворе.
– Я, все-таки, думаю, лучше уйти, – с тревогой в голосе, тихо высказал свое предположение Иван Петрович.
– Да ну, ты брось – подчиняться этому безмозглому, – скривив гримасу омерзения, категорически отверг это предложение Сухомяткин.
– Уж не знаю, как бы чего худого не вышло. Видно, что человек он раздражительный.
– Да шел бы он, куда подальше со своей раздражительностью. Мы к нему в квартиру, что ли ворвались, или у него прямо под дверью спали, мы на лестнице сидели. А он … Тоже мне, нашелся хозяин.
– Да я не об этом. Конечно, он в этой ситуации не прав. Но может лучше обойти.
– Не боись, прорвемся.
И они спустились к самой входной двери, которую Сухомяткин открыл и хлопнул, что было силы, а затем тихо, осторожно, можно сказать, даже беззвучно прокрался обратно, и, прихватив товарища под руку, вместе с ним отправился на второй этаж. На втором этаже было шумно, несмотря на поздний час, ввиду того, что в одной из квартир гремела музыка и танцевали. Торжественные восклицания слышались оттуда. По всей видимости, праздновали какой-то праздник, скорее всего, судя по раздававшимся тостам, чей-то день рождения.
– Может чего и нам перепадет, – потирая руки, сладострастно улыбаясь, проговорил Аркадий Васильевич, рассчитывая, по-видимому, на многое.
– Да, вполне возможно, но не необязательно, – снова не стал перечить Иван Петрович, оставив, вследствие наблюдении возникшие, и чрез них же прочно укрепившиеся сомнения при себе, дабы бессмысленно не спорить, потому что все же оставлял место для ошибки.
Крадучись, и оглядываясь наверх, чтобы не попасть в поле зрения, выгнавшего их здоровяка, они гуськом крадучись поднялись на второй этаж. Теперь уже никто из них на лестничные ступени не садился.
– Наверное, уж кто-нибудь выйдет покурить, – начал делиться своими соображениями Сухомяткин. – Авось по такому случаю, и не пожалеют немного денег.
– Возможно, и не пожалеют …
– Да точно не пожалеют, – убеждал Сухомяткин себя самого и своего товарища, словно от сказанных им вслух умозаключении, определенно должно было случиться именно так, как он предполагает, а ни в коем случае не иначе. – Да, слышно же, что день рождения. А день рождения – это праздник. Пьяные уж все, небось. А пьяные, чего, пьяные они податливые. По себе знаю. Было дело, помню, как я раз по-пьяни проиграл в карты всю получку, а потом меня жена за это сковородкой несколько раз по голове. Серьезно сковородкой, как в анекдоте. А ей даже ничего не сказал. Прошел сел, и заснул так в коридоре. Хорошо хоть не выгнала, а то бывало и такое, – скаля своими пожелтевшими и местами сгнившими зубами, завершил он свое повествование, потому что на лестничную площадку вышел в белой, выглаженной, почти прозрачной рубашке и в черных брюках молодой человек с темными волосами и темными бровями. На вид этот молодой человек был красив и серьезен, и казалось, боролся с одурманивающим эффектом алкоголя. По всей видимости, он был обеспечен и занимал не последнюю должность, а может просто происходил из богатого рода. Тем не менее, создавалось впечатление, что он привык брать ответственность на себя.
– Я, конечно, извиняюсь, – начал мягко Сухомяткин, – вы не могли бы помочь, сколько не жалко.
– Да конечно, – ответил молодой человек, прямо взглянув на него с сочувствием, порывшись у себя в брючных карманах, но не найдя там денег, попросил подождать. – Сейчас, в куртке, кажется, бумажник оставил.
– Я же говорил, я же говорил, – наслаждаясь собственным успехом, повторял Сухомяткин.
– Вы оказались правы, а я ошибался, – ответил Иван Петрович взвешенно, и оттого слегка протяжно.
– То-то же и оно. Надо верить в людскую доброту.
Прошло уже минут десять, но почему-то молодой человек не возвращался.
– Может, позвали тост сказать, – не желая верить в неудачный исход дела, утешал сам себя Аркадий Васильевич.
– Вполне возможно. День рождения все-таки, – ясно понимая его терзания и разделяя их, потому что сам уже надеялся на успех, поддержал его Иван Петрович.
По воле счастливого случая, и вследствие сердечной открытости молодого человека, их надежде суждено было оправдаться. Молодой человек, действительно, вышел, но не один, а в сопровождение шумной компании, развеселенных молодых людей, состоявшей кроме него самого, еще из трех девушек и двух парней. Парни были все в официальных костюмах, один даже при галстуке. На девушках же – разноцветные платья не то вечерние, не то обмундирование ночных бабочек.
– Ты куда? – спросила молодого человека, который в руке держал пару банкнот и уже собирался спуститься, чтобы передать их в руки, стоявшим в ожидании, и затаившим дыхание от такой несказанной удачи, бомжам.
– Попросили помочь, отчего не помочь – мягко улыбнувшись, ответил он.
– Ты что сдурел! – вытаращив на него свои большие жутко размалеванные, и от выпитого алкоголя опустошенные, усталые глаза, пронзительно крикнула и остановила его за рукав рыжеволосая красивая девица.
– А что такого?
– Пусть идут – работают. Это же алкаши. Ты им дашь, потом другой. И они будут ходить попрошайничать.
– Да ну ты брось. Может люди в беду попали. Не наше дело, – аргументировал свое инициативу молодой человек, тогда как все другие молчали, но молча поддерживали его подругу.
– Миша, у кого сегодня день рождения? У тебя или у меня. Ты хочешь испортить мне настроение в день рождения? – укоризненно взглянул на него, повышенным тоном, каким обычно воспитатели приструнивают непослушных детей, сказала она.
– Да не так уж и много. От нас не убудет! – решительно ответил он.
– Ага, как мне шубу, так подожди милая, а как этим, слов не находится как их назвать, так сразу, побежал.
– Ну, ты сравнила, – добродушно улыбаясь, прекословил он.
– Я сказала – нет. Ты всегда все делаешь по-своему. Даже в мой день рождения, – упрекнула она с обидой в голосе, готовая тут же заплакать. И через мгновение лицо ее искривилось, а слезы так и хлынули из требующих к себе жалости, выразительных глаз.
Молодой человек поднялся, обнял ее и прижал к себе. А она, повиснув на его шее, захлебываясь своими слезами, протяжно всхлипывала. Компания, молча, одобрила его действие. Выдержав трогательную минуту, все зашли в квартиру. А два, надеявшихся на хоть какую-нибудь помощь, уличных бродяги остались стоять в коридоре совершенно растерянными.
***
Около двадцати минут оба молчали. Ничего не хотелось говорить, да и тяжело было произн
Автор: Дмитрий Швец
прочтений: 2756 оценки: 4 от 1
© Свидетельство о публикации № 9781
Цена: 1 noo
|
Ваши комментарии
|
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь
О сервере
О проекте
Юмор
Работа
О нас
Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc
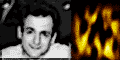



|